Выпуск 7. Комплексный подход к изучению истории раннего средневековья
За основу этого выпуска я взял свою статью. Здесь даю, можно сказать, тот же материал, но в более простом изложении.
Практически всегда любую научную проблему можно изучать, используя несколько разных подходов к ней. Причём так делать не только можно, но и нужно, потому что какой-то один подход обычно является неполным, и только изучение проблемы с разных сторон может дать достаточно полную картинку по тому или иному научному вопросу. Для истории, изучающей период раннего средневековья, таких основных (подчеркну – только основных!) направлений исследовательской деятельности можно выделить, по-видимому, три. Мы их сейчас рассмотрим, но будем делать это не абстрактно, а на примере конкретной научной проблемы – норманнского вопроса, который как раз и относится к раннему средневековью.
Основные направления в изучении раннего средневековья (названия направлений условные):
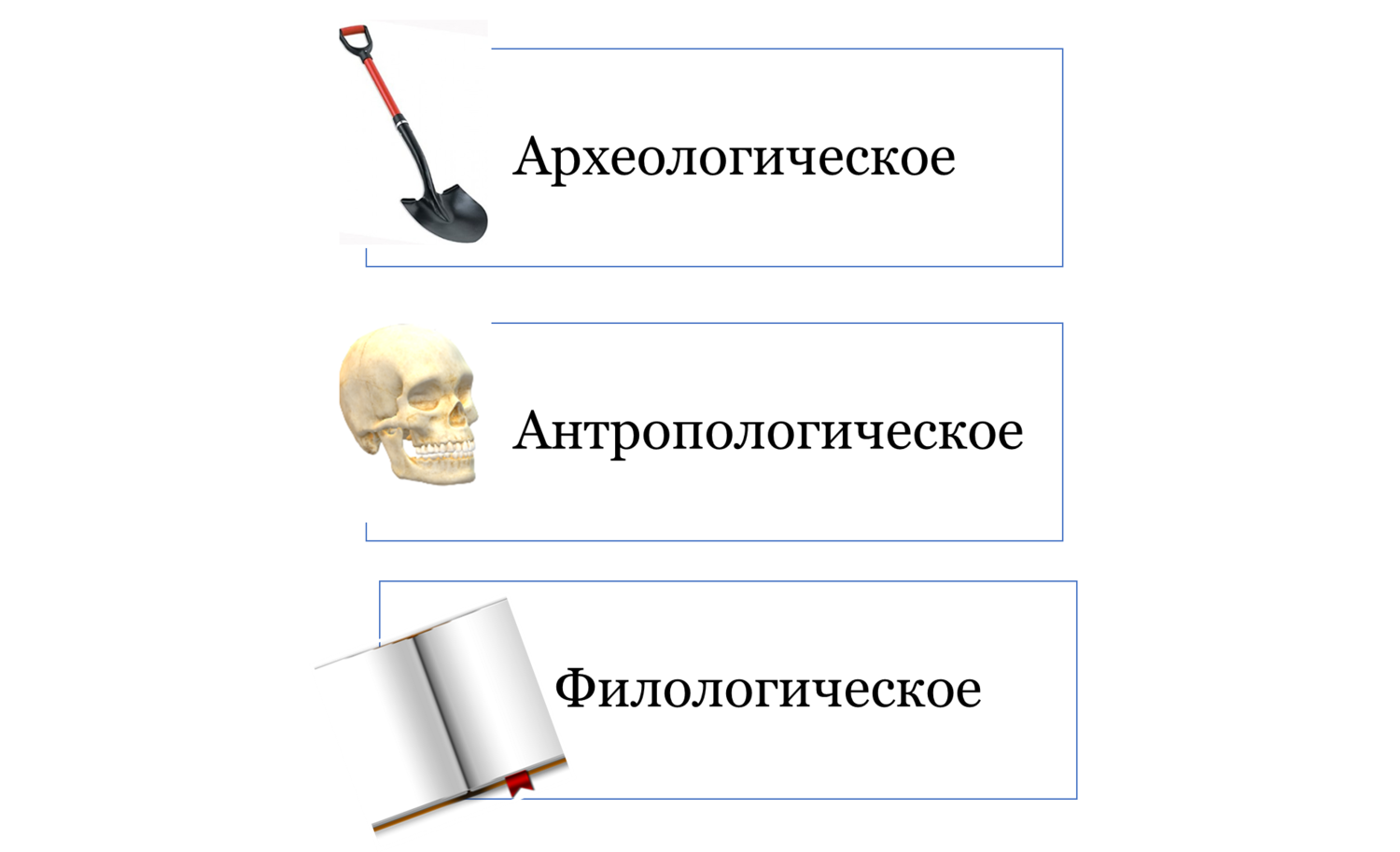
1. Археологическое направление. Многие исследователи рассматривают археологию как чуть ли не единственный источник абсолютно верной информации. Часто можно услышать высказывания, что только археология способна расставить всё на свои места. Достоинства археологии несомненны:
- археологи добывают фактический материал,
- археологических исследований проводится много и этот материал ежегодно существенно пополняется (по другим направлениям такого прироста данных нет).
Но есть у археологии и серьёзный недостаток: добываемые ей факты часто можно интерпретировать неоднозначно, а иногда интерпретации могут быть даже прямо противоположными. Я об этом говорил в прошлом выпуске и приводил там пример, когда скандинавские предметы на территориях восточных славян можно объяснить как присутствием здесь скандинавских поселенцев, так и просто развитыми торговыми отношениями, а при желании и ещё несколькими гипотезами. И все эти гипотезы будут иметь право на жизнь, хотя некоторые из них будут прямо противоречить друг другу. И при этом основаны они будут на одних и тех же археологических находках. Именно это и выводит археологию из статуса «абсолютного методологического оружия», который многие пытаются ей приписать.
2. Антропологическое направление. В первую очередь к нему относятся краниологические исследования, об этом мы тоже уже говорили в одном из выпусков, в 5-м (там же на странице 5-го выпуска можно найти и ссылки на соответствующие научные материалы). Сущность краниологических исследований состоит в изучении строения черепа: если в древнем погребении сохранился череп, то по особенностям его строения краниологи могут определить ряд характеристик погребённого, в том числе его принадлежность к той или иной группе народов. При этом, напомню, славян от скандинавов краниологи отличают достаточно хорошо (точнее сказать, не от скандинавов, а от германцев в целом, но с практической стороны это сейчас не имеет значения, т.к. скандинавы с точки зрения краниологии относятся к германцам). Такие исследования способны пролить свет не только на вопросы, связанные с конкретными погребениями, но и в целом на процесс этногенеза, вопросы миграции и смешения народов. Что же касается норманнской проблемы, то краниологические исследования проводились практически по всей территории Древней Руси, и их результаты не дают никаких оснований говорить о влиянии германцев на антропологический облик восточных славян. Этот вывод относится и к погребениям 9-11 вв., когда, по утверждениям норманистов, у нас тут чуть ли не вторая Скандинавия была.
Краниологические исследования имеют существенный недостаток в виде невозможности изучать трупосожжения. А ведь именно трупосожжение было главенствующим погребальным обрядом для многих народов периода раннего средневековья, в том числе и для восточных славян.
Есть и другие отрасли научной деятельности, которые условно (ещё раз подчёркиваю: условно! так что не надо придираться) можно отнести к антропологическому направлению. Это генетические исследования, различные виды остеологических исследований (изучение костей) и др., однако все они имеют свои ограничения и не могут сами по себе являться основанием для безоговорочных выводов. В то же время ни одна из этих отраслей не даёт однозначного подтверждения присутствия какого-то существенного количества скандинавов на русских землях в рассматриваемый исторический период.
3) Филологическое направление. В данном направлении можно выделить несколько ответвлений, основными из которых являются:
- изучение письменных источников,
- изучение топонимики (географических названий),
- этимология (происхождение) слов.
С письменными средневековыми источниками проблема та же, что и с археологическими находками: их содержание часто можно интерпретировать неоднозначно. С точки зрения норманнского вопроса, ни один из письменных источников не является (вопреки утверждениям норманистов) безоговорочным подтверждением норманистической концепции.
Изучение топонимики российских регионов также не подтверждает какой-то существенной роли скандинавов на Руси. Как известно, топонимы часто сохраняются даже в том случае, когда происходит смена этнических групп: пришлый этнос может вытеснить или ассимилировать ("поглотить", "растворить" в себе) местный этнос, но при этом названия рек, озёр, гор или других географических объектов часто остаются прежними. Так, например, на Смоленщине помимо славянских топонимов есть целый ряд рек и озёр с балтским и финно-угорским происхождением названий, что отражает присутствие здесь в своё время соответствующих этносов (на эту тему можно рекомендовать, например, статью Б.А. Махотина "Гидронимия Смоленской области").
Скандинавских же топонимов на Смоленщине не найдено вообще. А ведь под Смоленском располагается Гнёздовский археологический комплекс, который многие исследователи считают местом, где в 10-м веке жили скандинавы, и не просто жили, а якобы являлись социальной верхушкой местного общества! Но мало того, что краниология не даёт оснований говорить об их присутствии здесь, так ещё и ни одного скандинавского топонима не найдено. Впрочем, нет их и в других местах России, за небольшими исключениями на севере (Ладога). Что же касается знаменитые «русских» названий днепровских порогов, которые описаны в трактате Константина Багрянородного и которые, якобы, прекрасно выводятся из скандинавских языков, то при ближайшем рассмотрении их скандинавское происхождение оказывается очень натянутым и гораздо лучше просматривается из других языков (в будущем планирую посвятить этому вопросу отдельный выпуск).
Помимо этимологии топонимов (т.е., в переводе на человеческий язык, происхождения географических названий) изучается также и этимология (происхождение) обиходных слов. Ясно, что заимствование в период средневековья большого количества слов из другого языка указывает на взаимоотношения народов. Если с этой точки зрения посмотреть на норманнский вопрос, то мы увидим, что обиходных слов, заимствованных из скандинавских языков, в русском языке практически нет (опять же, в ближайшем будущем посвящу данному вопросу отдельный выпуск). В качестве противоположного примера можно привести английский язык: контакты жителей Британских островов со скандинавами в раннем средневековье (в том числе задолго до норманнского завоевания Англии в 11 веке) являются общеизвестным фактом, что отразилось во включении в английский язык большого количества скандинавизмов того времени.
Конечно, отсутствие норманнской топонимики и заимствованных скандинавских слов может на деле ничего и не означать (скандинавы могли не давать названий географическим объектам или эти названия вместе с норманнскими словами просто не прижились в славянской среде), однако когда такое отсутствие фактов или возможность их неоднозначной интерпретации возникает по всем рассмотренным исследовательским направлениям, то это уже серьёзный повод задуматься, «а был ли мальчик»?
Выводы
Предложенная классификация научных направлений (археологическое, антропологическое, филологическое) является в достаточной степени условной. Впрочем, это проблема почти любой классификации: трудно предложить единый вариант, устраивающий абсолютно всех. Кроме того, не всегда можно понять, к какому направлению отнести тот или иной конкретный метод исследования. Однако я и не претендую на разработку универсальной классификации. Представленный материал преследует две цели: во-первых, акцентировать внимание на необходимость комплексных, разносторонних исследований, во-вторых, посмотреть с разных сторон (пусть и очень коротко) на норманнский вопрос в отечественной истории. Даже такой предельно короткий анализ норманнской проблемы, выполненный с различных точек зрения, позволяет с уверенностью говорить как минимум о том, что норманнский вопрос сегодня ещё не закрыт и что далеко не всё в нём решают только лишь данные, полученные археологией.